Мейлах Б. С.: "Державинское" в поэтической системе Н. М. Языкова. Страница 1
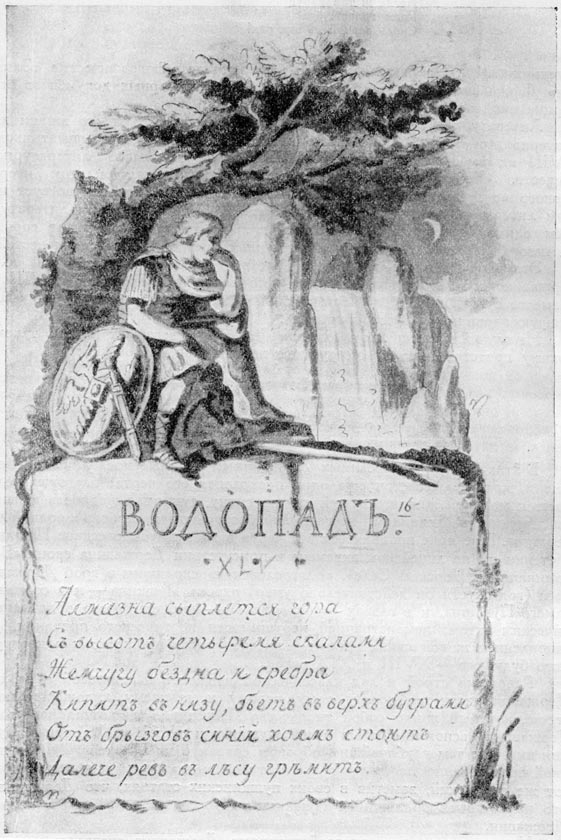
1 - 2
В разработке вопроса о роли поэтического наследия XVIII в. в развитии новой русской поэзии советское литературоведение достигло значительных результатов. Особенно существенным представляется изучение с этой точки зрения связей творчества отдельных поэтов первой четверти XIX в. с поэзией Державина, в противоречивом художественном мышлении которого содержались отчетливо различаемые элементы романтического стиля. В этом плане наиболее исследовалось творчество Пушкина, усвоившего все ценное в наследии Державина и сумевшего аналитически осмыслить те стороны его поэтической системы, которые обусловили ее неупорядоченность и мешали всестороннему отражению действительности. Преодолев характерное для раннего периода своей творческой биографии безотчетно-панегирическое отношение к Державину, Пушкин впоследствии подошел к нему объективно. Он подчеркивал, что у Державина имеются "мысли, картины и движения истинно поэтические", но тут же добавлял: "Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника". Он утверждал: "Державин, со временем переведенный, изумит Европу" (т. е. перевод сгладит неупорядоченность стиля), но тут же писал, что он "не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии", "должен бесить всякое разборчивое ухо".1Отзыв Пушкина, написанный с позиций уже сложившейся в его собственном творчестве целостной реалистической системы, вскрывает внутреннюю художественную противоречивость поэзии Державина, в которой многое предсказывало новые пути поэтического творчества, но было столь невыдержанно, сочеталось зачастую с таким архаическим отношением к слову и образу, что немало его стихов действительно кажутся "дурным вольным переводом с какого-то чудесного подлинника" (хотя оригинальность этого поэта ярко выражена и находится вне сомнений).
Если значение Державина для Пушкина выяснено,2то мало сделано в этом отношении в исследованиях других поэтов этой же эпохи. Среди них значительный интерес в занимающем нас аспекте представляет поэзия Языкова. Исследуя ее, мы можем установить и общую закономерность: на новом этапе развития русской поэзии даже наиболее ценные элементы поэтической системы Державина, если они не подвергались творческой переработке в совершенно ином художественном методе, накладывали жесткие ограничения, резко сталкиваясь с требованиями художественного новаторства.
В рамках этой статьи мы ограничиваемся лишь постановкой вопроса о сущности "державинского" в поэтической системе Языкова тем более, что вопрос о его творческих связях с традициями Державина у нас не освещался. В сводке С. Боброва, характеризующей отношение Языкова к различным представителям русской и мировой литературы, Державин даже не упоминается3Нет имени Языкова и в книге А. В. Западова "Мастерство Державина" (1958), последняя глава которой специально посвящена державинским традициям в русской поэзии (здесь имеется ряд интересных замечаний о лирике Пушкина, поэтов-декабристов и др.). А между тем еще П А. Вяземский подчеркивал особое значение для Языкова державинской поэзии:
Державина святое знамя
Ты здесь с победой водрузи
("К Языкову") |
К личности и творчеству Державина Языков проявлял исключительное внимание с юных лет. В письмах к брату из Дерпта мы находим неоднократные упоминания об этом поэте, просьбы прислать его портрет ("будет висеть на стене моей комнаты и развеселит мои уединенные занятия"), книги4В стихотворении "Мое уединение" (1823) Языков, обращаясь к Державину, восклицал:
И ты, кумир поэта!
С высокою душой,
Как яркая комета,
Горящей полосой
На русском небосклоне
Возникший в дни побед
И мудрую на троне
Прославивший поэт!
Твой голос величавый
Гремит из рода в род
И вечно не замрет
В устах полночной славы |
Сильное воздействие поэтики Державина на поэзию Языкова сказывается при всей ее оригинальности уже в самой ее специфике, в тональности, образности.
Одной из наиболее характерных особенностей зрелой лирики Языкова является ее с исключительной силой выраженная эмоционально-эстетическая окраска, то, что сам Языков назвал выражением "живых восторгов". В этой автохарактеристике Языков верно определил своеобразие собственного поэтического мироощущения. Почти все, кто пытался в прозе или в стихах охарактеризовать особенности языковской поэзии, пользовались теми же определениями. В посланиях Языкову Баратынский говорил о его "восторге удалом", Ознобишин — о "восторгов дивных порывах", и даже туповатый граф Хвостов называл его "восторга сын". Экстатическое мироощущение Языкова имел в виду и Пушкин, когда говорил об "избытке чувств" в его поэзии, и Вяземский, определивший его стих как "огнедышащий". "Торжественность", "пышность" языковской поэзии заставляют вспомнить не только общий колорит и тональность поэзии Державина, но и его теоретические установки. В "Рассуждении о лирической поэзии" "высокость" или "выспренность лирическая" расшифровываются как "плод пылкого, высокого воображения, которое возносит поэта выше понятия обыкновенных людей и заставляет их, сильными выражениями своими, то живо чувствовать, чего они не знали". Там же "лирическое", "высокое" раскрывается как беспрерывное представление множества "картин и чувств блестящих громким, высокопарным, цветущим слогом выраженное", который "приводит в восторг", здесь же защищается определение поэзии как "говорящей живописи".5
Достаточно привести хотя бы несколько взятых на выборку типичных строф из лирики Языкова для того, чтобы продемонстрировать не только эти черты "державинского" в эстетике и поэтике Языкова, но и творчески преломленное прямое влияние державинских принципов строения образности и метафоризации. Вот как Языков пишет, например, о любви:
Светлее зеркальных зыбей,
Звезды прелестнее рассветной,
Пышнее ленты огнецветной,
Повязки сладостных дождей,
Твои надежды...
("Элегия"). |
Самый образ любви и переживания поэта даны при посредстве живописных деталей предметного мира, и благодаря этому отвлеченные представления становятся конкретными, зримыми, чувствуемыми. Характерно здесь и само строение метафорического образа, "пышного", "торжественного"; любовь не только сравнивается с радугой — "лентой огнецветной" (которая, в свою очередь, метафорически раскрывается как "повязка сладостных дождей"), но оказывается еще "пышнее".
Несомненна здесь близость образных деталей метафоры Державина:
... из лент полоса,
Огненна ткань...
("Радуга"). |
1А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. XIII, Изд. АН СССР, 1937, стр. 182.
2Эта тема затрагивается в той или иной степени во всех монографических работах как о Пушкине, так и о Державине.
3Сергей Бобров Н, М Языков о мировой литературе М, 1916.
4См. Языковский архив, т I (1822-1829) СПб, 1913, стр 33, 39, 111, 145.
5Г. Р. Державин, Сочинения, т. VII, СПб., 1872, стр. 537-538, 564.
1 - 2
 Спасо-Преображенский собор в Тамбове |  Гавриил Державин |  Марка «Екатерина II и ее сподвижники» |